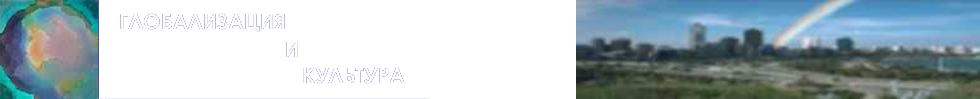«Вопросы литературы», N2, 2004
После того как с треском обрушилась гигантская ось идеологического противостояния между двумя супердержавами, полюса которой в той или иной степени притягивали к себе все остальные точки планеты, вряд ли возможно мыслить мир в категориях бинарных оппозиций. «Локальное» и «глобальное», «частное» и «универсальное» вступают между собой в гораздо более сложные отношения, нежели простое взаимоотрицание. И все же разнонаправленные «воздушные потоки», веющие над нашей планетой в начале третьего тысячелетия, группируются, как мне представляется, в два мощных течения. Центробежное стремится разметать нас в разные стороны авторитетом (а нередко, увы, слепой и грубой силой) однобоко трактуемых национализмов, религий, этнических самоидентификаций- центростремительное более тонко, но и более неумолимо сгоняет в одну кучу неявной, но от этого не менее реальной властью шагающих через кордоны финансовых корпораций, Интернета, голливудских боевиков и гамбургеров. Какое место в этой «розе ветров» отведено культуре? Действительно ли она, как поэтично выразился один исследователь, всего лишь «рябь на водной глади экономической глобализации»1 ?
В тексте приглашения на конференцию по этому кругу проблем (несомненно, одну из многих), послушно высветившемся на экране монитора, внимание привлекли отчаянные строки, обращенные в том числе и ко мне: «На нынешнем этапе глобализация означает прежде всего общий экономический порядок… Все, кто занимается преподаванием или исследованиями в области гуманитарных наук, кровно заинтересованы в обсуждении этих процессов, формирующих наше будущее… Мы не можем просто оставить вопросы будущего человечества на усмотрение технократов и экономистов…» Итак, гуманитарии всех стран, объединяйтесь? В данном случае этот призыв (не раз звучавший за минувшее столетие, но, увы, как правило, малоэффективный с точки зрения прямого воздействия на ход истории) имеет целью привлечь внимание к проблеме взаимодействия и взаимовлияния почтенной категории «культура» и относительно молодого понятия «глобализация» (настолько нового, что мой компьютер упорно подчеркивает незнакомый термин, никак не желая его признавать).
Постепенно входя в обиход с 1960-х годов, этот самый термин «глобализация» стал ассоциироваться в массовом сознании с не знающим государственных границ электронным течением капитала- с неудержимыми информационными потоками, проникающими в любой уголок земного шара- с хищным разгулом свободного рынка- с расширяющейся пропастью между богатыми и бедными — и с демонстрантами на телеэкране, протестующими против всего этого. Культурное измерение глобализации чаще всего воспринимается однозначно — как обезличивание, как утрата национальными культурами «лица необщего выраженья», на смену которому приходит одинаковая для всех (и чаще всего скроенная по американскому шаблону) штампованная маска, еще и говорящая на одном и том же языке (угадайте каком). Перспектива, что и говорить, мало радостная. Неудивительно, что многие страны стремятся ее избежать. Французское правительство, например, ведет настоящую партизанскую войну, пытаясь преградить путь на отечественные экраны хотя бы части заокеанской кинопродукции, а канадцы, не без поддержки ООН и ряда других стран, борются за ограничение свободной торговли продуктами культуры (поступающими прежде всего от могучего южного соседа), видя в них угрозу культуре собственной. Но действительно ли приобретение культурой статуса «всепланетной» может идти лишь одним путем — стирания всех частных различий, гомогенизации, — или этот процесс столь же многовекторен, плюралистичен и неоднозначен, как и все прочие в нашем постмодернистском мире?
Если понимать глобализацию как интеграцию в мировом масштабе, насколько нова ее новизна — особенно в применении к культуре? Большинство исследователей соглашаются, что новоизобретенный термин свидетельствует скорее о размахе и интенсивности явления в наше время, а не о его принципиально иной природе по сравнению с издавна происходившими с человечеством процессами. Многие относят начало сжатия географического пространства и, одновременно, расширения известного мира к эпохе «ранней современности» (более привычно именуемой нами Возрождением). Но есть и точка зрения (ее придерживаются, например, историки Уильям МакНил и Маршалл Ходжсон), согласно которой глобализация насчитывает около двух тысячелетий от роду, ведя отсчет от возникновения зоны афро-европейской цивилизации, простиравшейся от берегов Атлантики до вод Тихого океана2 . Какой бы системы координат ни придерживаться, невозможно отрицать роль межплеменных — межэтнических — межнациональных контактов в становлении того, что мы называем культурой, на всех этапах развития человечества. Письменная литература играет тут особую роль ввиду ее способности к относительно простому «переселению» из одного культурного контекста в другой. По словам литературоведа Стивена Гринблатта, она «практически неизбежно является агентом глобализации»3 . Сама природа литературы отрицает какие бы то ни было притязания на «чистоту крови», обусловливает — через постоянную циркуляцию, «взаимоопыление», отзвуки и эхо друг друга — культурное «мулатство» любой национальной литературы. И все же, сознавая естественность и вечность этой модели, нельзя не признать, что начало нового тысячелетия подвергает национальные культуры особо тяжким перегрузкам на выживание. Каким же видится будущее культуры в сегодняшнем быстро глобализующемся мире?
Прежде всего стоит хотя бы вкратце определить, какой смысл в данном случае вкладывается в чрезвычайно многозначное понятие «культура» (оно, между прочим, входит в число рекордсменов по количеству существующих дефиниций). Не пытаясь охватить их все, сосредоточимся на двух, как мне кажется, наиболее существенных для нашей темы. Одно представление о культуре связано с нацеленностью западной цивилизации Нового времени на удовлетворение материальных нужд, в связи с чем возникает ранее не существовавшая потребность в категории, заботящейся о нуждах духовных. В результате появляется карлайловское определение культуры как «корпуса наук и искусств», отдельных от «работы» общества, а затем известная формула М. Арнольда: культура — это то «лучшее, что помыслено и сказано в мире». Речь, таким образом, идет об интеллектуальной и эстетической сферах, причем в их «высоком» варианте. С другой же стороны, с точки зрения позднее развившейся антропологии понятие культуры гораздо шире и включает в себя (тут я пользуюсь рабочим определением К. Ванн Вудворда) «общую сумму моделей поведения, форм искусства, ценностей, убеждений, институций и других продуктов труда и мысли, присущих данному народу и передаваемых социально»4 . У. Бернс по-своему дополняет этот перечень, говоря о «различных обычаях, привычках, нравах или моральных установках/манерах»5 . В таком понимании культура равна, по сути, образу жизни. Посмотрим вначале на взаимоотношения с глобализацией именно так, широко понятой культуры, а затем попробуем сузить предмет разговора до одной из составляющих «культуры выражения» — литературы.
Глобализация = макдоналдизация?
Благом или проклятием является глобализация для культуры? При непременном различии оценок и подходов в точке зрения не только «человека с улицы», но и социологов, культурологов, историков преобладают тревожные тона. В существующей (уже весьма объемистой) литературе по данной теме можно отметить два ключевых, на мой взгляд, момента. Первый — выход культуры на первые роли в современных футурологических построениях, связанный в значительной степени с подстановкой ее на место идеологии в неизбежных катаклизмах, которые день грядущий нам готовит. Второй — попытки спрогнозировать, вернее даже, спроектировать оптимальные конфигурации локального и глобального как ядро всех дискуссий и раздумий вокруг глобализации.
Броскую формулу для обозначения отнюдь не веселого с точки зрения демократии будущего предлагает Бенджамин Барбер — «Джихад против МакМира» (1995), за первым членом которой стоит узколобый, жаждущий крови фанатизм любых чисто «местных» интересов, а за вторым — технически-коммуникационно-финансово глобализованный мир «быстрой музыки, быстрых компьютеров и быстрой еды». Прогноз ученого не внушает оптимизма: «Если будущее планеты — противостояние центробежного вихря Джихада и центростремительной черной дыры МакМира, результат вряд ли окажется демократичным». При этом он предполагает, что окончательная победа будет все же за глобалистскими тенденциями, подпираемыми материальными интересами- тогда нынешние вспышки Джихада — не более чем последние конвульсии перед «вечным зевком» МакМира6 .
На первой же странице нашумевшей статьи «Столкновение цивилизаций?» (1993), которая легла в основу одноименной книги, утратившей, правда, в заглавии знак вопроса (1996), Сэмюел Хантингтон провозглашает свою стержневую гипотезу — по его мнению, политика и экономика перестают быть главными источниками коллизий в современном мире. «Великие разделы между людьми и основные конфликты пройдут по линии культуры», а боевые рубежи будущего пролягут вдоль границ между цивилизациями7 . Не вдаваясь детально в аргументацию Хантингтона, отметим лишь, что утилитарные геополитические соображения приводят его к выводу о необходимости лучшего взаимопонимания между культурами, поисков общего в разных цивилизационных моделях, то есть того самого диалога культур, о необходимости которого так долго говорили именно гуманитарии.
В отличие от оставляющего нам некую надежду Хантингтона, Ф. Фукуяма в своей не менее известной концепции «конца истории» (на которой он, кстати, уже не настаивает) достаточно мрачно оценивал перспективы культуры. «В постисторическом периоде, — констатировал он на рубеже 1990-х годов, — не будет ни искусства, ни философии, мы будем лишь вечными смотрителями музея человеческой истории»8 . Эта мысль, естественно, вызвала у него в преддверии столетий невыносимой скуки ностальгию по временам, когда история (вместе с сопутствующей ей культурой) еще существовала.
Историк культуры Моррис Берман не верит в конец истории. Но в книге, показательно озаглавленной «Сумерки американской культуры» (2000), рисует не менее угнетающую картину, предлагая, впрочем, свой вариант борьбы с общекультурным упадком. Хотя безобразное состояние культуры постулируется им лишь в отношении родной страны, многие его приметы, в частности омассовление культуры и агрессивная наглость электронных медиа, вполне коррелируют с глобальными тенденциями. Предлагаемый им путь к спасению не нов: разочаровавшись в возможностях организованного, институционализированного противостояния неграмотности, бескультурью и китчу, он видит единственный выход в некоем современном эквиваленте монашеству раннего Средневековья. Как отдельные избранные в условиях распада Римской империи и нашествия варваров уединились в монастырях и сумели сберечь, пусть фрагментарно, драгоценные сокровища греко-римской культуры, позволившие через много веков состояться Возрождению, так и современные «монахи» (разумеется, в метафорическом смысле) должны взять на себя миссию сохранения высокой культуры Запада. Их задача — «сопротивляться головокружительному коловращению и кричащей безвкусице глобального корпоративного мирового порядка- они знают разницу между реальностью и Диснейлендом, честностью и коммерческой рекламой»9 . Берман называет себя «оптимистом-реалистом», сохраняя веру в то, что его «монахам» обоего пола, подобно выкинутым за пределы общества персонажам романа Р. Брэдбери «451о по Фаренгейту», удастся пронести культурную эстафету через темные времена (растянутся ли они на много столетий?) и передать ее потомкам.
С другой стороны, кое-кто бодро и даже радостно отмечает вездесущие приметы культурной глобализации, понимаемой как унификация. По мнению оптимистов, нивелирование культурных различий приведет к лучшему взаимопониманию и в других сферах жизни, то есть снизит вероятность социальных и межгосударственных конфликтов. Дэвид Роткопф, к примеру, полагает, что глобализация уничтожит не только культурные барьеры, но и многие негативные аспекты культуры, став важным шагом на пути к «большей стабильности на планете и к повышению качества жизни населяющих ее людей»10 . Говорится о становлении своеобразного «экуменизма прав человека» (Д. Ервье-Леже). Высказывается надежда, что «мир, в котором будет больше согласия в отношении прав человека, будет также более мирным» (Питер Бергер). И тот же Бергер, однако, выражает опасение по поводу сведения мировой культурной сокровищницы до уровня примитивной «культуры аэропортов», где «богатое разнообразие человеческих цивилизаций будет гомогенизировано и вульгаризировано»11.
Впрочем, вероятно, сама постановка вопроса — добро глобализация культуры или зло — некорректна, ибо, во-первых, опять возвращает нас на уровень ниже (черное —белое), а во-вторых, глобализация уже есть непреложный факт. Поскольку поиски ответа на вопрос «кто виноват?» вряд ли помогут культуре, продуктивнее, пожалуй, подход прагматический — что делать?
В этой связи небезынтересно остановиться на предложенной Бергером в процитированной выше статье модели культурной глобализации, складывающейся, на его взгляд, из четырех параллельных и взаимосвязанных процессов. Попробуем примерить их на родное постсоветское пространство.
Первый соотносится с так называемой «культурой Давоса» (по названию швейцарского курорта, где проходят ежегодные Всемирные экономические встречи на высшем уровне). Это культура мировой деловой элиты, включающая в себя манеру поведения, стиль одежды, вкусы. В то же время ее сфера применения не ограничивается международными аэропортами и залами заседаний- она «переливается» за края чисто делового общения, начиная определять собой образ жизни и систему ценностей своих адептов. Думается, что такая культура потихоньку начинает формироваться и у нас, и мне представляется, что на данном этапе это явление положительное. Какими бы занудно «юппизированными» (от «yuppie» — молодые представители городского среднего класса) ни выглядели вежливые (и компетентные!) молодые люди в стандартных костюмах и с дежурными улыбками, встречающие нас все чаще в банках, магазинах и фирмах, это шаг вперед по сравнению с дремучим хамством и бескультурьем, что греха таить, нередко определявшими стиль «бизнеса по-советски».
Второй тип транскультурализации Бергер именует «международным клубом профессуры». Речь идет о все более расширяющемся поле взаимодействия западной интеллигенции, о проникновении ее мировоззрения, убеждений и ценностей в самые отдаленные уголки земного шара, о формировании — с помощью всевозможных фондов, неправительственных организаций, сети научных и университетских связей — своего рода сообщества интеллектуалов, говорящих на одном понятийном языке. С падением «железного занавеса» именно в этот «клуб» стало легче попадать ученым из бывшего Союза. Вероятно, многие согласятся со мной, что в силу всем известных причин различия в «языке» были поначалу и впрямь разительны (в частности, в гуманитарных областях). Представители же следующего поколения (историков, литературоведов, филологов…), имея доступ к любым текстам и считая поездку в Америку (Англию, Францию…) чем-то почти ординарным, могут чувствовать себя в этом клубе завсегдатаями. Это, конечно, замечательно. Только вот вопрос, напрямую связанный с обсуждаемой проблемой: входя в мировое интеллектуальное сообщество, следует ли безоговорочно принимать его «правила игры», пользоваться общепринятым в нем жаргоном, следовать за его быстро меняющимися интеллектуальными модами («Один сезон ваш бог — Ван Гог, другой сезон — Сезанн»…)? Или не стоит полностью отказываться от иных форм знания, по крупицам собранных под другими небесами? С другой стороны — не покажутся ли они на миру слишком провинциальными, хуторскими («и запоздалые наряды, и запоздалый склад речей…»)? Локальное и глобальное…
Далее следует, конечно, массовая культура, для обозначения которой Бергер использует барберовский термин «МакМир»: стандартизация вкусов (что есть, как одеваться и изъясняться, что смотреть и слушать)- триумф (по крайней мере внешний) массовой культуры американского образца- почти полное «переселение» значительной части молодежи в виртуальное пространство «дот.кома». Примеры можно множить, но стоит ли — они бросаются в глаза на каждом шагу, как в общественном, так и в частном пространстве (особенно если в доме есть дети). Именно такую глобальную культуру клеймят в первую очередь нехорошим словом «вестернизация» (иногда конкретнее — «американизация»), для которого не устают выдумывать яркие синонимы — «макдоналдизация», «рэмбификация»… Как отмечает Бергер, противники «культурного империализма» особенно обеспокоены (и не без оснований) тем, что дело не ограничивается внешними признаками поведения. И впрямь, МакСтиль тихой сапой контрабандой внедряет определенный комплекс идей и представлений о жизни в целом, а не только о том, под какую музыку танцевать и какие джинсы носить. Соотношение между Мак- и традиционной культурой варьируется в разных регионах в зависимости от количественных (насколько сильна) и качественных (насколько своеобычна) особенностей этой последней. Одновременно несогласие по поводу омассовленного стиля жизни придает новые обертоны вечному конфликту поколений — ведь линия раздела чаще проходит именно между возрастами. Вероятно, нас (я имею в виду пост-Союз, а в нем — тех, кому за тридцать) больше всего тут удручает установка на стандартизацию желаний и рефлексов, влекущая за собой, как нам кажется, неизбежный конформизм. А еще — демонстративное пренебрежение к «высокой» культуре, преклонение перед которой советская интеллигенция впитывала с молоком матери.
Наконец, четвертый вариант глобализации культуры, по Бергеру, составляет (возможно, для нас это несколько неожиданно) активное расширение евангелического протестантизма, причем в тех регионах, где он всегда был чужим, — Латинской Америке, Восточной Азии, южной части Африки. Неся с собой элементы веберовской «протестантской этики», эта конфессия таким образом распространяет (опять-таки!) в первую очередь североамериканские ценности. Нам это тоже знакомо — в первые годы после распада Союза во все его бывшие республики хлынул поток всевозможных миссионеров, привлекавших потенциальную паству разнообразными методами, от новизны повернувшегося иной стороной христианства до демонстрации фильмов и организации концертов рок-музыки. И определенная часть населения, безусловно, приняла предложенное утешение — тем более что все это происходило в обстановке распада империи, всегда сопровождаемого религиозным всплеском. А уж какая именно религия дарует душевный покой, зависит не только от исторической традиции, но и от искусности ее земных представителей. Однако, опомнившись от первоначального замешательства, православие воспротивилось вторжению на его исконную территорию, и экспансия протестантизма несколько поумерилась.
Очевидно, что все названные каналы культурной глобализации (на самом деле их, конечно, больше) действуют одновременно, но пропорция — где больше голливудских триллеров, а где евангелических проповедников — варьируется в зависимости от местных условий. Все четыре роднит между собой их очевидно западное происхождение. Вероятно, если противоядием от утраты культурной идентичности считать, вместе с Хантингтоном, настоящий диалог между культурами, необходимо изучать не только отношения между этими «пришлыми» и «аборигенными» культурами, но и взаимодействия между самими этими каналами. Тогда вместо постулируемого Хантингтоном бинарного диалога между «Западом и остальным миром» (the West and the rest) возникнет намного более сложная и, как надеется Бергер, более продуктивная парадигма.
«Вертикали» и «горизонтали»
литературной глобализации
Обратимся теперь к более узкой культурной проблематике, а именно к близкой мне области преподавания и исследования литературы. Каким образом глобальные тенденции влияют на эту, достаточно консервативную, сферу духовной деятельности человека? Западные профессионалы стали задаваться этим вопросом не только из научных, но и из практических соображений. Обеспокоенные все более агрессивным вытеснением гуманитарных дисциплин на обочину академического (и общественного) дискурса, они полагают, что способность литературоведения вовремя и адекватно откликнуться на запросы времени может остановить сей грустный процесс или даже повернуть его вспять. Именно этот мотив настойчиво звучит в высказываниях авторов, стоящих на достаточно разных позициях в отношении самой проблемы. Масао Майоси характеризует изучение английского языка и литературы как «дисциплину, переживающую свой закат»12 . Джайлз Ганн предупреждает, что если литературоведение и в дальнейшем не будет вносить свой вклад в глобальный диалог, изменяющий мир, в котором мы живем, то это приведет к его (литературоведения) все большей маргинализации, равно как и гуманитарных наук в целом13 . А Пол Джей связывает глобализацию изучения литературы с самим выживанием данной дисциплины, суля в случае неудачи еще более периферийное ее положение в университете будущего14 . Понятны, таким образом, мотивы, побудившие крупнейшую профессиональную организацию, объединяющую преподавателей и исследователей литературы в США, — Ассоциацию преподавателей современных языков — в 1998 году провести форум, специально посвященный вопросам глобализации, а в 2001-м перенести обсуждение на страницы своего влиятельного журнала.
Честно говоря, более или менее маргинальное положение гуманитарного цикла в западных системах образования подготавливалось всем «раскручиванием» проекта Нового времени, постепенно переносящего центр тяжести с ренессансных studia humanitatis на технический прогресс. «Свободные искусства» при этом неумолимо отодвигались на дальние рубежи желаемого знания. Правда, однако, и то, что сегодня этот процесс повсюду набрал невиданные доселе обороты. Не могу судить о других постсоветских странах, но мои украинские коллеги, я думаю, согласятся с тем, что отмечаемое Майоси резкое падение интереса к изучению литературы — это и наша беда (хотя параллельно наблюдается и противоположное движение). Тут просматривается некий (впрочем, лишь кажущийся) парадокс: в советские времена гарантированное место работы (пусть и не за Бог весть какие деньги), с одной стороны, и почти полное отсутствие зависимости между дальнейшей карьерой и профессиональными качествами — с другой, позволяло студентам гуманитарных факультетов при желании полностью погрузиться в получение «удовольствия от чтения», перефразируя Р. Барта. Вступив на каменистый путь, ведущий к рынку, наши страны резко изменили ситуацию: сегодня знание еще одного (а лучше нескольких) иностранных языков или интимное знакомство с компьютером, не говоря уж о наличии водительских прав, открывает перед молодым гуманитарием куда более радужные перспективы как дома, так и в дальнем зарубежье. Учитывая тот печальный факт, что количество часов в сутках неизменно, молодежь нередко оказывается перед выбором: условно говоря, прочесть еще одну книгу или сходить на занятия по менеджменту. Не во всех, но во многих случаях результат предсказуем. И хотя никакие изменения в учебных программах и планах не в состоянии переориентировать общественные тенденции, частично скорректировать их, вероятно, все же возможно, развернув изучение литературы вдоль магнитных линий общемирового развития. Одна из них по крайней мере указывает в направлении глобализации. Поэтому и нам небезразлично, как преподавать и исследовать литературу в новых условиях.
Один из вариантов ответа — признание необходимости выйти за рамки традиционного подхода к изучению мировой словесности в формате отдельных национальных литератур или как минимум модифицировать его в соответствии с сегодняшними реалиями. Неудержимый процесс глобализации в областях, прямо не соприкасающихся с литературой, и в первую очередь в экономике, заставляет говорить об устарелости (по крайней мере теоретической) самого понятия национальных государств как продуктивной научной концепции. Например, известный культуролог
Э. Саид, как и многие другие, настаивает на пересмотре представления о том, что «литература существует в национальных рамках»15 . И хотя никто, за исключением экстремистов от глобализации, не призывает немедленно отказаться как от самих национальных государств, так и от представления об их специфических культурных комплексах, усиливающаяся транснационализация экономических и культурных режимов подталкивает к осознанию ослабления этой привычной модели и, соответственно, к постепенному отходу от мышления исключительно в ее категориях. Такой сдвиг наблюдается и в других гуманитарных дисциплинах, и в интеллектуальном дискурсе в целом. Так, редактор и один из авторов недавно вышедшего в Великобритании сборника «Глобализация в мировой истории» А. Хопкинс прямо рекомендует историкам «отказаться от узконационального подхода к истории, господствовавшего в нашей области с середины ХІХ столетия»16 . В применении к литературе такой поворот неизбежно побуждает вновь обратиться к концепту Weltliteratur («мировая литература»), предложенному Гете еще в 1827 году и подвергавшемуся с тех пор неоднократному переосмыслению. Если на протяжении длительного времени «мировая литература» понималась то как взятый воедино массив всех текстов, созданных человечеством когда-либо и где-либо, то, чаще, как корпус канонических произведений западной культуры, то как предмет изучения сравнительного литературоведения/компаративистики, то сегодня на первый план выходит, по словам Дж. Пайзера, ее «имманентный характер», то обстоятельство, что «культурная глобализация влияет на структуру, содержание и даже язык отдельных произведений»17 . Исследователи связывают это со все расширяющимся литературным рынком, с новыми условиями производства и потребления литературы, с возможностями ее практически мгновенного распространения во всепланетном масштабе. Речь идет уже не просто об интертекстуальности, а о наднациональной текстуальности современных книг, приводящей к формированию даже не «мировой», а «глобальной литературы».
Как же должно преподавание литературы реагировать на подобные тектонические сдвиги? Как мы увидим дальше, на вызов глобализации предлагаются разные ответы, но в фокусе внимания неизменно оказываются ключевые понятия гибридности, полиморфности, взаимопроникновения разнородных культурных потоков, вновь ставящих во главу угла связь местного со всеобщим.
Первым шагом, если речь идет об американских университетах, стало весьма показательное изменение в наполнении традиционного термина «English Literature». Внутри его начиная с 1970-х годов совершился переход от изучения литератур Великобритании и США, традиционно объединявшихся под этим термином, к изучению «Literatures in English» — литератур, создаваемых на английском языке, в том числе за пределами двух признанных лидеров западного мира (а внутри их — выходцами из культурных меньшинств). Постколониальная реальность, активные миграционные процессы и электронные средства коммуникации, способствующие созданию наднациональных и диаспорных сообществ, приводят к тому, что, как отмечает С. Гринблатт, «ряд наиболее значительных романов, пьес и стихотворений на английском языке создается сегодня в Дели и Лагосе, Атланте и Антигуа»18 . Достаточно вспомнить, среди многих других, имена Салмана Рушди и Дерека Уолкотта, Воле Шоинки и Чинуа Ачебе, В. С. Найпола и Дж. М. Кутзее, чтобы убедиться в справедливости его слов. К связи между транснациональными и мультикультурными феноменами мы еще вернемся- пока же отметим твердую приверженность американской высшей школы именно к такому, расширенному видению предмета и призывы «отойти еще дальше, чем сейчас, от национальных категорий британской и американской литературы» (П. Джей)19 . При этом — что немаловажно — на нынешнем этапе акцент делается не на выделении «новой литературы на английском языке» в отдельную категорию, изучаемую параллельно (или даже вместо) текстам, созданным авторами из «метрополий», как нередко получалось раньше и приводило к своего рода геттоизации или литературному эквиваленту апартеида. Теперь настала пора исследовать и преподавать «новую» и «старую» литературу в единстве, подчеркивая взаимодействие и взаимовлияние между ними, вызванные культурным «переливанием крови». Предлагается, та-
ким образом, отбросить устаревшую бинарную оппозицию центр — периферия, где первый выступал исключительно в качестве активной и агрессивной, а вторая — пассивной и жертвенной стороны, а вместо этого сосредоточить внимание на моментах сцеплений и связок, вспышках сопротивления и случаях обратного воздействия.
Следующий стратегический ход подразумевает расширение объекта литературоведческих исследований как по «горизонтали», так и по «вертикали». «Горизонтальная» модель имеет в виду размывание границ между британской и американской литературами в процессе их изучения и усиление интереса к «трансатлантическим встречам». Учитывая исторический путь формирования национальной литературы США, призыв двигаться в направлении «атлантической культуры» звучит достаточно иронично: вспомним, сколько времени понадобилось уже давно выросшей из британских пеленок и пышущей жизнью американской литературе, чтобы пробить себе дорогу в вузовские программы. Прослеживая этот долгий путь от 70-х годов ХIХ века, когда американская литература определялась в учебнике как «та часть английской литературы, которая создается на американской почве», и до 40-х годов века ХХ, когда у интеллектуалов все еще были основания утверждать, что «наши колледжи и университеты… постыдно игнорируют нашу собственную культуру», Л. Левин в конце 1990-х годов приходит к выводу, что «еще 50 лет назад они (студенты. — Н. В.) изучали канон, в котором литература, созданная в рамках их родной культуры, играла крайне незначительную роль»20 . А какую упорную внутреннюю борьбу вела литература США сама с собой, чтобы утвердить свою культурную независимость от бывшей метрополии! И тем не менее тяготение к трансатлантическому альянсу вполне согласуется с кросс- и транскультурными устремлениями современности.
Еще более перспективной выглядит идея «вертикального» подхода к изучению американской культуры/литературы как к «проекту в масштабе всего полушария» (Л. Бьюэлл). Все резче раздающаяся (и внутри стран, и извне) критика шовинистического присвоения Соединенными Штатами громкого имени Америка, на которое имеют такие же права десятки других стран, привела к активизации усилий по переосмыслению места литературы и культуры США в панамериканском контексте. Д. Дайян и
Э. Хейфиц среди прочих напоминают забывшим о том, что Америка — это далеко не только США и что признание этого непреложного факта требует превращения American Studies («американских исследований») в Americas Studies («исследования Америк»)21 . Л. Бьюэлл считает, что логичность такого подхода не в последнюю очередь обусловлена и изменениями в демографическом составе самих Соединенных Штатов, где выходцы из Латинской Америки (или их потомки) скоро станут крупнейшим по численности культурным меньшинством и составят в недалеком будущем четверть населения страны22 . Ощущая себя постоянно «на границе» между государствами, культурами, языками, литераторы и критики чикано (американцы мексиканского, в некоторых источниках — вообще латиноамериканского происхождения) особенно активно разрабатывают теорию «пограничных» идентичностей и литератур, возникающих в контактных зонах в результате (не всегда желанных) взаимовлияний и (неминуемой) гибридизации.
Таким образом, смысл уже осуществляемых и только намечаемых перемен заключается не только и не столько в добавлении-отнимании объектов изучения/преподавания, сколько в постулировании принципиально иного взгляда на них как на локусы встреч разнородных и разнонаправленных культурных импульсов, причем встреч далеко не везде и не всегда идиллических. Как мы сейчас убедимся, подобная переориентация характерна и для культурных процессов внутри стран.
Глобализация «изнутри»
Расшатывание когда-то прочной позиции национальных государств как основных репозитариев культуры происходит не только снаружи, через супракультурные процессы, но и изнутри, через процессы субкультурные. Единой национальной культуре, воспринимаемой сегодня многими как тотализирующая, патриархальная, подавляющая, противопоставляются культурные практики более малых групп, конституирующих себя на основе различных признаков — расово-этнической или национальной принадлежности, гендерной самоидентификации, сексуальной ориентации.
Если говорить о территории, занимаемой на литературной карте мира Соединенными Штатами, ей сего