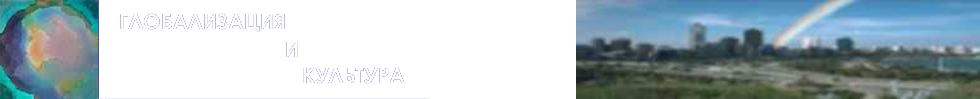Свободная мысль-ХХI, №6, 2004
Хотя общение и взаимодействие культур и цивилизаций происходили всегда, призыв к их диалогу прозвучал недавно, и это не случайно. Диалог предполагает двусторонний и равноправный процесс, но вряд ли кто-либо возьмется отрицать, что «соотношение цивилизационных сил» на всем протяжении современной истории человечества было таково, что взаимодействие цивилизаций чаще всего оказывалось «улицей с односторонним движением». Это не могло не найти отражения в языковой ситуации. Подлинно международными языками, способными претендовать на глобальную роль, были и остаются европейские языки, а во второй половине ХХ века обозначилось доминирование одного из них — английского.
В этой статье мы попытаемся рассмотреть лозунг диалога цивилизаций в контексте двух мощно проявляющихся в настоящее время тенденций: превращения английского языка в единственный глобальный язык международного общения и массового исчезновения языков малочисленных народов, истощения языкового разнообразия. Необратимы ли эти тенденции, можно ли на них влиять, каковы их возможные пределы, как они влияют на саму возможность диалога культур и цивилизаций? Разумеется, ответы на эти вопросы нельзя дать с абсолютной уверенностью, но без их постановки полноценное обсуждение проблематики диалога цивилизаций вряд ли возможно.
ВТОРАЯ половина XX столетия стала временем «триумфального шествия» английского языка в глобальном масштабе. Пожалуй, еще в середине ХIХ века мало кто мог бы предположить, что этот язык, сложившийся из диалектов, на которых говорили переселившиеся в раннее средневековье в Британию германские племена, станет через несколько десятилетий доминирующим в мировой экономике, науке и технике, дипломатии, носителем культурного влияния, распространяющегося практически на все страны мира. Однако уже в 1898 году Бисмарк на вопрос, что он считает решающим событием современной истории, ответил: «То, что североамериканцы говорят по-английски».
Сегодня английский язык считают родным примерно 400 миллионов человек, живущих в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и некоторых других странах. Но гораздо больше людей — более 1 миллиарда, а по некоторым оценкам, 1,5 миллиарда человек — пользуются английским языком в качестве второго или третьего языка в работе и жизни. Здесь следует между прочим отметить, что большинство пользующихся английским языком владеет им далеко не «в совершенстве» (при том, что эта часто встречающаяся формулировка вообще условна). Типичными являются скорее ограниченные познания и затрудненная, а часто примитивная, речь. Это, однако, никак не влияет на масштаб тенденции глобализации английского языка, которая не показывает никаких признаков исчерпания или даже ослабления.
Согласно концепции голландского исследователя А. Де Шваана, английский язык «занимает в мировом созвездии языков гиперцентральное место», причем такое его положение поддерживается «механизмами саморазвития и саморасширения». По наблюдениям ученого, одним из факторов, способствующих закреплению такой роли английского, является соперничество других языков и групп языков, а также чисто формальное признание идеала многоязычия элитами, которые в действительности умело используют в своих интересах преобладание одного языка. В пользу английского языка работает и тот факт, что большинство людей стремится осваивать языки, обладающие наибольшей «коммуникационной ценностью», и поэтому призывы лингвистов и политиков к многоязычию повисают в воздухе, особенно учитывая все более прагматически-рыночный характер отношений между людьми, придающий коммуникационной ценности языков денежное и «карьерное» выражение.
Приведем лишь несколько примеров проявления отмеченной выше тенденции. Английский язык стал безраздельно господствующим в сфере науки, особенно в точных и естественных науках. Организаторы международных научных конгрессов фактически отказались от услуг синхронных переводчиков. Интересная деталь: рабочим языком ежегодной московской школы физиков, проводимой Физическим институтом Российской академии наук, является английский, хотя для большинства ее участников он не является родным языком. Аналогичный процесс происходит в международном бизнесе: английский становится не только языком общения бизнесменов из разных стран, но и внутренним языком подавляющего большинства транснациональных корпораций, в том числе многих из тех, первоначальное происхождение которых — не англо-американское. Об этом говорил, в частности, в одном из своих интервью председатель совета директоров германской транснациональной корпорации «Сименс». Английский в обязательном порядке используется в управлении воздушным движением, практически безальтернативно — в сфере путешествий и туризма, он доминирует в Интернете, дает подавляющую часть терминологии и сокращений, используемых в банковском бизнесе, в технике, в частности компьютерной, в сфере связи. (Контраргумент, что, «согласно статистическим прогнозам», к середине XXI века английский язык «не имеет надежды стать ведущим, первым языком мира», а на это место выйдет китайский, прозвучавший, как ни странно, в недавнем интервью академика Вяч. Иванова, не выдерживает критики: ведь существенным является не абсолютное количество говорящих на языке — здесь китайский лидирует уже сейчас, — а его использование в международном общении.)
Несколько сложнее положение в сфере политики и дипломатии. С одной стороны, рабочим языком, на котором ведется внутренняя деятельность практически всех международных организаций (включая такие, как Совет Европы и Европейский союз, в составе которых нет США), является английский. Все труднее представить себе дипломата, не владеющего английским языком. Расширение НАТО и распространение ее программ на десятки стран мира быстро превращают английский в единственный язык международного военного сотрудничества. Но противовесом этому является то, что неанглоязычные государства решительно настаивают на сохранении официального статуса своих языков в международных организациях и происходит даже увеличение числа таких языков: в 1980-х годах официальным языком ООН дополнительно стал арабский, а в 1990-х в Совете Европы этот статус приобрел русский. Заседания органов Европейского союза обеспечиваются синхронным переводом на все языки государств-членов, что в условиях их увеличения до двадцати пяти создает не только дополнительную финансовую нагрузку (а расходы на перевод уже являются самой большой статьей в финансировании органов ЕС), но и массу проблем технического характера. Тем не менее ЕС не отказывается от этого принципа.
Сторонники такого подхода подчеркивают его демократичность: дискуссии и особенно решения европейских органов должны быть доступны всем жителям стран Европы, и надо в перспективе стремиться к максимальной информационной открытости любого мероприятия ЕС. Характерно высказывание представителя ЕС Э. Мамера, приведенное журналом «Newsweek»: «Сам по себе ЕС — это проект, в основе которого заложено уважение к культурам различных стран. Просто невозможно заставить польского фермера говорить с ЕС на английском языке». Критики же возражают, что за всем этим, как и за активными усилиями Франции по поддержанию «статусности» французского языка, стоит не столько практическая необходимость, сколько политическая мотивация, что скорее всего не может существенно повлиять на относительную распространенность языков в мире. Не без сарказма сообщается, что поиски устных переводчиков мальтийского языка пока не дали положительного результата.
Однако отмеченная «тенденция сопротивления» — пример того, что нынешнее, сложившееся в основном по объективным причинам «языковое неравенство» не может не вызывать отторжения. Причины здесь, видимо, не только чисто политические. Например, то, что относительно легко происходит в Европе, где в таких странах, как Голландия и Швеция, в политическом классе и бизнесе владение английским стало практически всеобщим, или то, что выглядит достаточно органично в Индии или Пакистане, невозможно представить себе в Китае и, как выяснилось в послевоенные десятилетия, в Японии (японцы легко заимствуют английские слова, но средний японский инженер или бизнесмен, в отличие от европейского, по-английски не говорит, в лучшем случае «читает со словарем»).
Чем крупнее страна, чем мощнее ее «культурный слой», тем менее вероятно освоение английского языка как массовое явление. На улицах Осло или Копенгагена первый встречный почти наверняка ответит вам на вопрос, заданный по-английски. В Париже или Мюнхене это гораздо менее вероятно. И если во Франции это может быть объяснено известным «культурно-лингвистическим национализмом» французов, то в Германии причина, видимо, в ином. В Бельгии, где, казалось бы, коммуникативная ценность английского должна быть примерно одинаковой независимо от региона, английский хорошо понимают во Фландрии (примыкающей во всех отношениях к Голландии), но не во франкоязычной Валлонии.
Возможны и случаи, когда английский язык в период происходящих в стране политических потрясений становится для тех, кто им владеет, своего рода «черной меткой» — так произошло в Иране, и эта модель может быть повторена в других странах, когда политические, экономические и культурные элиты в своей прозападной ориентации переходят некоторую черту — причем в каждом случае заранее невозможно сказать, где именно эта черта проходит.
«Тенденция сопротивления» может проявляться и в культурной сфере, причем иногда даже там, где английский язык широко распространен. Французская газета «Монд» с некоторой завистью рассказывает о том, что в Индии, несмотря на отсутствие каких-либо квот в кинопрокате, американская кинопродукция составляет лишь 5—6 процентов рынка, все остальное — исключительно индийские фильмы. Причины этого явления многообразны, и среди них как «хорошие» (приверженность индийцев собственной «кинопарадигме» с обязательными песнями и танцами, опорой на местную мифологию и популярную культуру, театральностью игры), так и «плохие» (видеопиратство и цензура, вырезающая сцены откровенного секса и насилия). Речь идет, конечно, об уникальной и скорее всего не воспроизводимой в других условиях ситуации, но она заслуживает изучения.
В последнее время опасения за судьбу и статус английского языка выражаются в его «цитадели» — в Соединенных Штатах Америки, например в книге гарвардского профессора, автора концепции «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона «Кто мы?». Конечно, эта проблема для Хантингтона имеет подчиненное значение- главный предмет его тревог — массированное проникновение в США законной и незаконной мексиканской иммиграции, в котором он видит угрозу для американской культуры. По Хантингтону, две культуры — американская, основанная на принципах верховенства закона, прав человека и протестантской трудовой этики, и латиноамериканская (в ее мексиканском проявлении) — статичны и непримиримы. И здесь — прямая связь с языком. Хантингтон пишет: «Не существует “американо-мечты”. Есть только американская мечта, созданная англо-протестантским обществом. Мексикано-американцы смогут разделить плоды этой мечты и этого общества только в том случае, если будут мечтать по-английски».
Не вдаваясь в спор по поводу основных культурологических посылок автора, скажу лишь, что описание им языковой ситуации в США отличается буквально панической драматизацией и не обосновано систематическими статистическими и социологическими данными. А те данные, которые он приводит, свидетельствуют, что ни компактное проживание, ни двуязычное образование (против которого он резко выступает) не изменяют существенным образом стандартной тенденции: во втором, максимум в третьем поколении подавляющее большинство иммигрантов овладевает английским. Что же касается владения языком страны происхождения, то испаноязычные американцы пока действительно сохраняют его в большей мере, чем, скажем, выходцы из Германии или Норвегии, но у тех массовая иммиграция происходила гораздо раньше. Неизвестно, что будет еще через два-три поколения. Да и вообще, Хантингтон внятно не объясняет, в чем вред испаноязычия наряду с владением основным языком страны, английским.
В мире же возникает парадоксальная картина: все более являясь глобальным языком международного общения, английский вряд ли может претендовать на роль единственного и полноценного языка «диалога цивилизаций» (берем это выражение здесь в кавычки, так как имеется в виду не нынешнее состояние этого диалога, а скорее его «идеальная модель»). Общение преимущественно на одном языке, являющемся для одной из сторон неродным, связано с немалым количеством трудностей и потенциальных ловушек для обеих сторон.
Тот факт, что изучение иностранных языков и культур во второй половине ХХ века утратило для большинства населения англоязычных стран, в частности для американцев, «инвестиционную привлекательность», с сожалением отмечался в дискуссиях, последовавших вслед за событиями 11 сентября 2001 года. Тогда выяснилось, что в США катастрофически не хватает специалистов по большинству восточных языков, а арабистами являются в основном американцы арабского происхождения — ситуация далеко не оптимальная, учитывая неизбежно возникающую проблему лояльности. Общение преимущественно на английском языке порождает и другую проблему: сужается круг самого этого общения, он ограничивается лишь определенными слоями и группами населения, вольно или невольно приводит к навязыванию терминологии и фразеологии и таким образом проблематики, характерной для англоязычного дискурса. (Можно предположить, что Запад в какой-то мере попал в эту ловушку в 1990-е годы в своем взаимодействии с российской элитой, что стало одной из причин неожиданности для большинства западных аналитиков политического поворота, происходящего в России сейчас. Впрочем, его и у нас мало кто предсказывал, во всяком случае в его нынешних формах.)
Таким образом, если судить о временных и пространственных пределах глобализации английского языка пока трудно, то ее качественные рамки и ограничители очевидны уже сейчас. Полноценное общение, соответствующее «идеальной» модели диалога, о которой говорилось выше, невозможно при резком перекосе в сторону одного языка. Здесь опять-таки представляет интерес тенденция, наблюдающаяся в последние годы в России: если 15—20 лет назад многие дипломаты и бизнесмены могли позволить себе годами жить в Москве, не говоря почти ни слова по-русски, то сейчас это становится скорее редкостью. В условиях расширения и интенсификации международного общения будет расти как стремление к изучению языков, так и спрос на услуги профессионалов межъязыковой коммуникации — прежде всего переводчиков, задачи которых будут постепенно дополняться функциями «межкультурного консультирования».
Неизбежным мне представляется и следующее: объективно более сильная, англоязычная (конкретно в нынешних условиях — американская), сторона диалога должна будет учитывать невозможность прямого навязывания другой стороне политических, идеологических и иных концептов, укорененных в английском языке и американской культуре. В этом отношении большой интерес представляет развивающаяся на наших глазах ситуация в Ираке. Разрабатывая концепцию передачи полномочий иракскому органу власти, оккупационная коалиция первоначально выдвинула идею выборов такого органа через механизм так называемых региональных собраний, обозначаемых английским (а по существу — чисто американским) словом «caucus». Отражая не свойственные арабскому миру реалии, это слово, переводимое на другие языки при помощи таких словосочетаний, как «представительная ассамблея» или «собрание общественности», не имеет эквивалента в арабском языке (как, впрочем, и в русском, и, надо полагать, в большинстве других языков), что с самого начала вызывало отторжение у большинства иракцев, в том числе готовых сотрудничать с коалицией. Потребовалось три месяца, чтобы несостоятельность первоначального плана была признана его авторами. Показательно, что в качестве своего рода арбитра различных вариантов передачи власти иракцам был призван генеральный секретарь ООН — организации, которая подвергалась в США жесточайшей критике, но которая имеет значительно больший опыт и экспертный потенциал в области межкультурной коммуникации, чем любое ведомство отдельной страны. Не идеализируя ООН, можно все же с уверенностью предположить: если бы ее привлекли с самого начала, слово «caucus» просто не появилось бы.
Еще одним фактором, ограничивающим безраздельную глобализацию английского языка, является наличие устойчивых региональных сообществ с преобладанием одного (не английского) языка. На сегодняшний день такими языками, безусловно, являются французский (в значительной части Африки), испанский (в Латинской Америке), арабский (на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке, а также как язык Корана во всем мусульманском мире) и русский (на постсоветском пространстве). Характерно, что в отношении всех этих языков на политическом уровне предпринимаются усилия по сохранению ими статуса языка международного общения. Ограничимся здесь рассмотрением перспектив русского языка.
ПОСЛЕ распада СССР объективным наблюдателям (в отличие от значительной части российской элиты, полагавшей, что развал страны совместим с сохранением за ней статуса и реальных возможностей сверхдержавы) было очевидно, что Россия будет играть значительно более скромную роль в мире, чем Советский Союз. На протяжении последнего десятилетия этот прогноз подтвердился, а в последние годы появились признаки неизбежности осознания этого и большей частью российской элиты. Иной оказалась судьба прогноза о быстром уменьшении роли и распространенности русского языка. Авторы данного прогноза основывали его на нескольких аргументах и предположениях. Среди прочего считалось, что отторжение русского языка будет идти не только в результате активных усилий элит, видевших в его вытеснении важнейший элемент реальной суверенизации и гарантию против влияния России и русскоязычного населения, но и по другим, более «органичным» причинам. В частности, предполагалось, что «титульное» население будет активно отторгать русский язык, а элиты бизнеса, науки и техники и политики начнут быстро осваивать английский по причинам как «престижного», так и практического характера. На вопрос: «На каком языке через десять лет будут разговаривать, встретившись где-нибудь, молдавский и узбекский (или украинский и грузинский) инженеры?» многие серьезные исследователи отвечали: «На английском» (а не на русском). В вышедшей в 2001 году книге А. Де Шваана «Слова мира» утверждается, что русский язык «утрачивает многие свои суперцентральные [то есть связующие] функции в бывшей советской империи», во многом уступая их английскому, причем автор не проводит принципиального различия между странами Центральной Европы и славянскими и неславянскими республиками бывшего СССР, хотя к этому времени было уже очевидно, что процессы в этих регионах развиваются по-разному.
Сегодня можно констатировать, что катастрофического отката русского языка на постсоветском пространстве не произошло. Более того, наблюдения в ряде республик показывают, что такой «откат» произошел исключительно в официально-государственной сфере и в образовании, причем последнее никак не повлияло на распространенность русского языка в повседневном общении, например на Украине. В некоторых местах чрезмерное рвение властей в вытеснении русского языка привело к обратной реакции. К тому же, как выяснилось, для значительной части населения не оказался сильно действующим фактор отторжения русского языка как имперского. Характерен здесь пример стран Балтии. Если в 1930-е годы, через 10—15 лет после обретения ими независимости, русский язык там почти исчез из употребления, то в 1990-е этого не произошло, причем не только потому, что на территории этих стран значительно больше, чем в предвоенный период, русскоязычных жителей, но, по-видимому, и потому, что, независимо от официальной политики властей, предубежденность к языку как таковому не носит массового характера.
Другие причины сохранения влияния и распространенности русского языка на большей части территории бывшего Союза еще предстоит оценить, но, как представляется, минимальную роль в этом играют усилия, предпринимаемые российскими властями, «программы помощи соотечественникам» и т. п. Если пытаться выделить различные действующие факторы, то можно отметить, например, сохраняющиеся экономические и производственные связи (а в последнее время — экспансию российского бизнеса на соседние страны), мощный финансово-организационый потенциал российской массовой культуры (эстрада, телесериалы, дубляж иностранной кино- и телепродукции), возможности современных средств связи и чрезвычайную активность русскоязычного Интернета.
Вообще надо сказать, что более существенную роль в удержании и восстановлении (как это происходит в последние пять-шесть лет на западе Украины) позиций русского языка играет не «высокая культура», а «низкие жанры»: в литературе это детективы и иное развлекательное чтиво, в музыке — обрусевшие «поп» и «рок», а также «шансон». Объем и разнообразие продукции такого рода, поступающей из России, огромен, да и для местных авторов и исполнителей велик соблазн писать и петь по-русски — русскоязычный рынок больше, чем украинский, и ближе и доступнее, чем англоязычный. Играют свою роль инерция и содержательное и духовное богатство представляемой русским языком культуры. Однако рискну высказать предположение, что последнее больше сказывается в «дальнем зарубежье», где существует огромная русская (точнее, русско-еврейская) диаспора, которая, в отличие от послереволюционной диаспоры 1920-х годов, не настроена враждебно по отношению к нынешнему российскому государству, а склонна симпатизировать ему и сохраняет с Россией многообразные связи.
Очевидно, что русский язык обладает бульшими, чем виделось некоторым наблюдателям, возможностями сохранения своего влияния и распространения. Это открывает перед ним перспективу сыграть в диалоге культур и цивилизаций существенную роль. Однако в конечном счете эта роль будет зависеть от того, какой станет Россия в ближайшие десятилетия, справится ли она с задачей освоения демократических форм жизни.
Если влиятельность той или иной культуры, того или иного языка определяется количеством и характером заимствований из этого языка в другие, то интересно проследить «кривую» заимствований из русского на протяжении ХХ века. Прежде всего следует признать, что количество их было сравнительно невелико и многие из них (например «большевик», «колхоз», «советский», не говоря уже о заимствованном во все языки и имеющем крайне отрицательные коннотации слове «гулаг») воспринимаются сегодня только как реалии ушедшего периода истории. Очень невелико число слов, заимствованных с положительными ассоциациями и до сих пор их сохраняющих, как, например, «спутник», «перестройка», «гласность». Можно предположить, что успех «перестройки» в том виде, как она мыслилась ее инициаторами, мог бы привести к заимствованию концепции гласности — не только как движения к свободе слова, но и как требования реальной информационной открытости власти, чего сейчас не хватает и в странах развитой демократии. Но такое «концептуальное заимствование» возможно только у лидера, а срыв «перестройки» лишил Россию всякого шанса на лидерство в обозримом будущем. Характерно, что в последние годы в европейские языки из русского проникло, пожалуй, только слово «силовики» — опять-таки не с самыми лучшими ассоциациями.
Соотнесенность лидерства и культурно-языкового влияния видна и на отрицательном примере арабо-мусульманской культуры. Обладая огромным культурно-историческим потенциалом, она оказалась в ХХ веке на обочине основных тенденций мирового развития, не вписавшись в поворот к демократии. Отсюда и отсутствие сколько-нибудь существенного влияния арабского языка на другие языки, чисто «этнографический» характер сравнительно немногочисленных заимствований из него (появляющиеся в последние годы демократические или во всяком случае «модернистские» элементы в арабском политическом и информационном пространстве — как, например, телеканал «Аль-Джазира» — пока недостаточны, чтобы переломить эту тенденцию). Противоположный пример — заимствование в политический лексикон ряда языков, в том числе английского, французского слова «acquis» в словосочетании «aсquis communautaire». Этим словосочетанием обозначается поистине грандиозный комплекс законов, норм и правил, который выработан в Европейском союзе за годы его существования и который сегодня во многом определяет жизнь Европы. И вполне закономерно, что, несмотря на преобладание в межъевропейском общении английского языка, в данном случае употребляется именно французское слово — не только благодаря его емкости и лаконичности, но и как следствие той лидирующей роли, которую играла Франция в европейском строительстве с 1951 года.
ИЗ СКАЗАННОГО можно сделать вывод, что невозможно ставить отдельно задачу «укрепления роли и влияния» русского языка — будь то на постсоветском пространстве или тем более в мире. В то же время отрицать возможный эффект хорошо продуманных программ или кампаний, наверное, все-таки не стоит. Это подводит нас ко второй проблеме, поставленной в начале статьи и отчасти связанной с возможностями и потенциальной эффективностью «языковой политики». Речь идет о процессе исчезновения десятков языков, о последствиях и пределах этого процесса, о том, насколько желательно и возможно остановить или хотя бы замедлить этот процесс. Очевидно, что эти вопросы находятся в русле проблематики диалога культур.
Оценки темпов гибели языков малочисленных народов и племен различны. Наиболее пессимистические из них сводятся к тому, что из примерно 6 тысяч языков, существовавших в мире на рубеже XX—XXI веков, через одно поколение — то есть через 25—30 лет — их останется всего 600. Дальнейшая перспектива — в мире останется сначала две-три сотни, а потом несколько десятков языков. Характерна динамика исчезновения индейских языков в США. По оценкам специалистов, из 200 языков, еще недавно существовавших на североамериканском континенте, через пару десятилетий останется около 20. Независимо от точности этих оценок очевидно, что никакие меры по сохранению языков слаборазвитых малочисленных народов не могут быть по-настоящему эффективными, и поэтому максимум, на что может рассчитывать любая «языковая политика», — это закрепление в лингвистической науке исчезающих языков и диалектов путем их подробного описания. Сама по себе задача сохранения различных языковых картин мира является очень дорогостоящей и требует большого энтузиазма. К тому же такая «этнолингвистическая экология», имея большое научное и нравственное значение, никак не влияет на тенденцию, итогом которой, как это ни печально, станет через несколько десятилетий сохранение всего лишь нескольких десятков языков и закрепленных в них «культурных миров». Языковое разнообразие, в отличие от биологического, хотя бы частичное сохранение которого возможно в случае выполнения соответствующих международных конвенций, останется только на бумаге. Вместе с языками умрут целые миры культур, разнообразие мироощущений, способов общения и выражения мыслей.
Однако в рассуждениях на эту тему часто упускается из виду один важный момент. В то время как процесс исчезновения «малых языков» быстрыми темпами идет на американском континенте, в Африке и Азии, он замедлен и даже практически приостановлен в Европе. И это не только результат государственных программ, в том числе в рамках международных организаций (так, Совет Европы финансировал проведение в 2002 году «Года европейских языков»), но, возможно, и результат начавшегося «органичного» противодействия языковому и культурному нивелированию. Так, практически все население Люксембурга (около 340 тысяч человек) говорит на люксембургском языке (диалект немецкого, отличающийся от него «до степени полного несмешения»), хотя в стране, живущей за счет так называемых финансовых услуг и «естественно многоязычной» (английским, французским, немецким владеют буквально все), в этом нет на первый взгляд никакой практической необходимости. Аналогичным образом мальтийцы, в большинстве своем владеющие английским и итальянским, в быту пользуются мальтийским языком — сложным синтезом североафриканского варианта арабского языка и сицилийского диалекта итальянского. В Эльзасе, неоднократно переходившем из рук в руки в ходе многочисленных войн между Францией и Германией, господствует французский язык при почти всеобщем понимании немецкого и сохранении местного диалекта, изучаемого во многих школах. В Барселоне, едва ли не самом культурном и космополитичном городе Испании, прекрасно чувствует себя каталонский, а в Швейцарии сохранился ретороманский язык. Весьма успешными оказались усилия по восстановлению некоторых европейских языков почти из небытия.
При этом для населения многих европейских регионов характерна иерархия языков: английский используется в качестве глобального языка международного общения, французский или немецкий — в качестве «рабочего языка» (на службе, при чтении газет и т. д.), а местный язык или диалект, резко отличающийся от общенационального (как, например, во многих районах Германии), выступает в качестве средства повседневного, бытового общения. Такая тенденция может свидетельствовать о существовании определенной потребности в «языковом разнообразии», которая оказывается сильнее нивелирующих тенденций современной эпохи. Насколько сильна эта потребность и может ли она сохраняться без определенной степени государственной поддержки — вопрос открытый. Но обращает на себя внимание то, что на стыке глобализационных и противодействующих им тенденций оптимальные или разумные решения находят те страны, где, во-первых, прочно укоренились демократия и гражданское общество и, во-вторых, достигнуты относительно высокий уровень и качество жизни малочисленных национальностей. Разумеется, последнее не является гарантией от конфликтных, иногда весьма острых, ситуаций, которые можно наблюдать, например, в Бельгии, но шансы на их урегулирование в Европе всегда высоки.
Экстраполяция существующих в мире на сегодняшний день языковых тенденций — дело, заведомо обреченное на неудачу. В истории всегда есть место для неожиданностей и для результатов целенаправленного действия (вспомним хотя бы о резком переломе ситуации в Квебеке начиная со второй половины 1960-х годов, положившего начало превращению Канады в реально двуязычную нацию). Это верно не только в отношении языковой картины мира, но и, в гораздо большей степени, для перспектив диалога культур. Соотношение здесь скорее всего нелинейное. Так, хотя китайский язык, видимо, не может претендовать в обозримой перспективе на статус языка международного общения, сам факт его выдвижения на первую позицию по числу говорящих на нем людей, равно как и представляющаяся неизбежной перспектива выхода Китая на первое место по абсолютной величине валового внутреннего продукта, будет оказывать давление на партнеров Китая. При этом можно прогнозировать, пользуясь терминологией Де Шваана, «отделение гегемонии языка от гегемонии выражаемого им мировоззрения». В то время как преобладание английского в качестве глобального языка международного общения, вполне вероятно, сохранится в обозримом будущем, подъем Китая (и других центров силы) будет подрывать «американоцентризм», сложившийся к настоящему времени в таких областях, как международные связи, наука (в том числе экономическая теория), бизнес, а возможно, и массовая культура. Это будет стимулировать равноправные отношения и диалог с Китаем, который неизбежно будет «диалогом цивилизаций».
В случае с арабскими странами побудительные причины к диалогу для Запада иные и во многом противоположные. Не вдаваясь здесь в подробное рассмотрение этой темы, можно выделить среди них прежде всего страх перед возможностью возникновения в арабо-мусульманском поясе многочисленных «недееспособных государств», превращающихся в очаги конфликтов и рассадники международного терроризма. Не меньшее опасение вызывает радикализация арабских масс и возможность революционного взрыва в некоторых мусульманских странах в сочетании с огромными финансовыми ресурсами, накопившимися там за последние десятилетия. Избранная Соединенными Штатами стратегия активного воздействия на идущие в арабо-мусульманском мире процессы требует интенсивного их изучения и глубокого понимания и таким образом придает необходимости диалога «эгоистическую» мотивацию.
Как в случае с Китаем, так и в отношении арабо-мусульманского мира, от нынешнего гегемона потребуется осознанное и осмысленное решение о вступлении в диалог и его прове